
Текст: Екатерина Баева
Как заметил Ричард Бакл, один из самых известных биографов Вацлава Нижинского, «можно легко суммировать жизнь Нижинского: десять лет рос, десять лет учился, десять лет танцевал и тридцать лет пребывал в затмении». Тем не менее за эти мимолетные десять лет Нижинский успел произвести неизгладимое впечатление не только на всех, кому посчастливилось увидеть его вживую на сцене, но даже на изучающих его творчество по фотографиям – как критиков, так и простых зрителей.
Исследователи и историки танца, например Линкольн Кирстейн, Джоан Акочелла, Дэниел Гесмер и Артур Прайор Додж, писали о своих фотографических встречах с Нижинским, но наиболее известно эссе американского танцевального критика Эдвина Денби «Заметки о фотографиях Нижинского» (1943). Денби писал: «В своей неподвижности фотографии Нижинского обладают большей жизненной силой, чем запечатленные на них танцы, какими мы сейчас их видим на сцене. Они продолжают показывать нам, какими могут быть танцы, к чему стремятся зритель и танцовщик и что должно считаться золотым стандартом искусства».
У него же:
«Глядя на фотографии Нижинского, поражаешься его выразительной шее. У него необычайно толстая и длинная шея. Но ее выразительность заключается в том, как четко она поднимается от туловища, словно мощным толчком. Плечи не квадратные, а спущены, и поэтому они оставляют шею легко свободной, и взгляд следует за их силуэтом вниз по рукам с ощущением линии, необычайно вытянутой в пространство, как на картине Сезанна или Рафаэля. Поэтому голова на другом конце этого необычного удлинения, расположенная в воздухе, приобретает поразительную отчетливость, и ее наклон, даже без мускульной выразительности, представляет необыкновенный интерес».
В сегодняшнем тексте мы собрали лишь немногие отрывки из мемуаров коллег и современников Нижинского, которые вместе с фотографиями великого – возможно, величайшего – танцовщика всех времен могут помочь понять феномен его гения.
Николай Легат, балетмейстер, педагог Нижинского:
«Для поступления в школу Нижинского привела его мать.
Он произвел невыгодное впечатление на экзаменационную комиссию, потому что был неуклюж и слабого здоровья. Но при медицинском осмотре я был поражен мускулатурой его ног. За мной было последнее слово как за преподавателем старших классов.
Я велел Нижинскому отойти на несколько шагов и прыгнуть. Прыжок был феноменальным. «Из этого малыша мы сделаем хорошего танцовщика», — сказал я и принял его без колебаний. Я поместил его сначала в младший класс к брату Сергею, но его успехи были так быстры, что вскоре он перешел ко мне в старший класс, а затем в класс усовершенствования, когда я принял его после Иогансона. Я приложил все старания, чтобы развить особенности, выделявшие его впоследствии среди всех танцовщиков тех лет, — его феноменальный прыжок, его блестящие заноски, силу его developpé. Он произвел сенсацию при первом же появлении в Мариинском театре, а его отставка (очень, по-моему, несправедливая, из-за нарушения дисциплины) поразила и удручила всех».

Тамара Карсавина, балерина, впоследствии часто выступавшая вместе с Нижинским:
«Однажды утром я пришла раньше обычного; мальчики еще не закончили урок. Я мельком взглянула на них и не поверила глазам: один из мальчиков взлетел над головой своих товарищей и, казалось, повис в воздухе.
– Кто это? – спросила я Михаила Обухова, его учителя.
– Нижинский. Этот чертенок никогда не успевает опуститься на землю вместе с музыкой.
Он подозвал Нижинского и велел ему сделать несколько па. И моим глазам явилось чудо. Он остановился, и все увиденное показалось мне нереальным и невероятным. Мальчик, казалось, не осознавал, что делал нечто необыкновенное, он выглядел вполне заурядным и даже немного отсталым.
– Да закрой рот, муху проглотишь, – сказал учитель. – А теперь все свободны.
И мальчишки бросились прочь, словно горошины, просыпавшиеся из мешка, и их топот и болтовня глухим эхом отдавались в сводчатом коридоре.
Пораженная, я спросила Михаила, почему никто не говорит об этом замечательном мальчике, ведь он вот-вот закончит училище.
– Скоро заговорят, – усмехнулся Михаил. – Не волнуйтесь».
1907 год, театральный художник Александр Бенуа на репетиции в училище по приглашению балетмейстера Михаила Фокина:
«Я не обратил бы на него внимания, если бы Фокин не представил его мне как танцора, для которого он специально сочинил роль раба Армиды, чтобы предоставить ему возможность проявить свой выдающийся талант. Фокин рассчитывал изумить публику необычайной высотой его sauts и vols, выполняемых без видимых усилий. Должен признаться, что я был очень удивлен, когда увидел это чудо лицом к лицу. Небольшого роста, плотного сложения, с совершенно заурядным, невыразительным лицом, он производил впечатление скорее мастерового, чем сказочного героя. Но то был Нижинский! Пожимая его руку, я представить не мог, что через два года ему суждено обрести мировую славу и закончить свою короткую, но совершенно фантастическую карьеру увенчанным ореолом гения».
О Нижинском заговорили уже с момента его первого появления на Императорской сцене в Петербурге, но истинная слава пришла к нему после выступлений в «Русских сезонах» Сергея Дягилева в Париже. Джеффри Уитуорт, писатель и танцевальный критик, автор первой прижизненной книги о Нижинском (The Art of Nijinsky), вышедшей в 1913 году, размышляет о феномене его гения:
«Одним из главных признаков гениальности является сочетание в одном и том же человеке талантов, достаточно общих самих по себе, но редко встречающихся вместе. Искусство Нижинского полно таких сочетаний. Одним из них, например, является тот союз силы и легкости, который является, пожалуй, самой очевидной чертой его стиля. Если не считать мускулистого развития бедер, Нижинский производит впечатление очень худощавого телосложения. Его тело стройно, как у мальчика. Его руки нежны. Его запястья и лодыжки почти изящны. Когда наблюдаешь за его танцем, не покажется странным, что столь проворное существо способно поднять и удержать на волосок от земли другое существо, похожее на него самого, но даже более хрупкое, чем он <...>. Но, поразмыслив, приходится осознать, что все-таки он поднимал взрослую женщину и что только кажущаяся легкость, с которой он ее держал, обманула тебя, заставив поверить, что она легка, как воздух. Попробуйте сами, и вы поймете, сколько физической силы нужно, чтобы совершить такой подвиг, даже неуклюже. Нижинский – невероятно изящный мужчина. А изящная сила – это сила вдвойне.
Другое сочетание качеств, наиболее заметное в искусстве Нижинского и самое редкое, — это сочетание полной свободы движений с неизменным чувством декоративности. Свобода движения, несомненно, может быть достигнута практикой. <...> Но у Нижинского поза, позировка кажутся скорее инстинктом, чем усвоенным уроком, и даже в самой дикой оргии движения присутствует чувство контура. В любой момент его силуэт, если бы его можно было разглядеть, я полагаю, представлял бы собой прекрасную картину. И это ни в коем случае не является вопросом простого обучения, что можно доказать, сравнив стиль Нижинского со стилем других наиболее компетентных танцовщиков той же трупы».
Критические статьи того времени кишат гиперболами: театральные обозреватели, как могли, пытались описать свои ощущения от невероятных выступлений Нижинского. Британский танцевальный критик Сирил Бомонт писал, что во время выступления танцовщик, казалось, был «окружен каким-то невидимым, но ощутимым ореолом», и объяснял харизму Нижинского почти магией: «Возможно, при рождении Нижинского к нему своей волшебной палочкой прикоснулся Оберон?»
Карсавина об индивидуальности Нижинского и творческом перевоплощении:
«Если бы Нижинский попытался следовать общепризнанным эталонам мужского танца, то никогда не смог бы в полной мере раскрыть свой талант. Впоследствии Дягилев с почти сверхъестественной проницательностью открыл миру и самому артисту его истинную сущность. Жертвуя своими лучшими качествами, Нижинский доблестно пытался соответствовать требованиям традиционного типа балетного премьера до тех пор, пока чародей Дягилев не коснулся его своей волшебной палочкой: маска невзрачного, малопривлекательного мальчика упала, явив миру экзотическое создание, обладающее кошачьей грацией и обаянием эльфа, полностью затмившими приличную благообразность и благопристойную банальность общепринятой мужественности».

Михаил Фокин о Нижинском в роли Золотого раба в «Шехеразаде» (1910):
«Отсутствие мужественности, которым отличался этот удивительный танцор и которое делало его непригодным для некоторых ролей (например, для Главного воина в «Игоре»), очень подошло для роли Негра-раба. Он напоминал первобытного дикаря не цветом кожи, но всеми своими движениями. Это — полуживотное-получеловек, похожий то на кошку, мягко перепрыгивающую громадное расстояние, то на жеребца с раздутыми ноздрями, полного энергии и от избытка силы перебирающего ногами на месте».
О нем же писал Марсель Пруст, который присутствовал на первом представлении «Шехеразады». Несколько дней спустя, комментируя критическую статью о выступлении, он заметил: «Не понимаю, как вы могли видеть мимику Нижинского, перед ним всегда танцевало человек двести, — и добавил: — Я никогда не видел ничего более прекрасного».
Петрушка в балете Стравинского стал одним из коронных образов Нижинского, хотя первоначально считалось, что изящный танцовщик исполнит роль Фокусника, а не гротескной и некрасивой куклы. Вспоминает Александр Бенуа:
«Я не мог надивиться мужеству Вацлава, решившегося после всех своих успехов в партиях jeune premier выступить в роли этого ужасающего гротеска — полукуклы-получеловека. Суть роли Петрушки — жалкая забитость и бессильные порывы отстоять личное счастье и достоинство, и все это — не переставая быть куклой. Роль вся задумана (как в музыке, так и в либретто) в каком-то «неврастеническом» тоне, она вся пропитана покорной горечью, лишь судорожно прерываемой обманчивой радостью и исступленным отчаянием. Ни одного па, ни одной «фиоритуры» не дано артисту, чтобы понравиться публике. А ведь Нижинский был тогда совсем молод, и соблазн понравиться должен был прельщать его более, чем других, умудренных годами артистов».
На одном из представлений «Петрушки» присутствовала Сара Бернар: «Боюсь, боюсь, я вижу величайшего актера в мире».
Американский писатель и фотограф Карл ван Вехтен, чьи заметки о трансформации Нижинского являются одними из редких письменных отчетов о закулисной подготовке танцовщика, писал, что, когда он не был на сцене, Нижинский был «настолько робок, что, казалось, отходил на второй план». Даже физически Нижинский вне сцены считался скучным и неуклюжим: например, Жан Кокто описывал его как «маленькую обезьянку с редкими волосами». То же самое волшебное превращение отмечал Александр Бенуа (речь идет о подготовке к выступлениям и Нижинском в балете «Павильон Армиды»):
«Окончательная метаморфоза происходила, когда он надевал костюм, к которому относился с чрезвычайным и неожиданным вниманием, требуя, чтобы все выглядело в точности так, как нарисовано на картине у художника. При этом апатичный с виду Вацлав начинал нервничать и даже капризничать… Вот он постепенно превращается в другое лицо, видит это лицо перед собой в зеркале, видит себя в роли и с этого момента перевоплощается: он буквально входит в свое новое существование и становится другим человеком, притом исключительно пленительным и поэтичным. В той степени, в какой здесь действовало подсознательное, я и усматриваю наличие гениальности. Только гений, то есть нечто никак не поддающееся «естественным» объяснениям, мог стать таким воплотителем «хореографического идеала эпохи рококо», каким был Нижинский в «Павильоне Армиды» — особенно в парижской редакции моего балета».

О некоторой «недалекости», застенчивости Нижинского писали многие:
По словам Карсавиной, «Нижинский не обладал даром точной и ясной мысли, в еще меньшей мере умел он найти адекватные слова для выражения своих идей. Если бы его попросили издать манифест своей новой веры, даже под угрозой смерти он не смог бы дать более ясное объяснение, чем то, которое дал, пытаясь объяснить свою удивительную способность парить в воздухе».
Но никто не мог предвидеть трагедии, которая случилась в дальнейшем. 19 января 1919 года Вацлав Нижинский последний раз выступал на публике. Период его международной славы продлился всего пять лет; более 30 лет, вплоть до своей смерти в 1950 году, он был сумасшедшим, которого опекала его жена Ромола. Иногда его вывозили в театр, навещали коллеги и почитатели.
«Во время этого короткого пребывания в Париже в рождественские дни 1928 года Дягилев предложил навестить Нижинского, но, поразмыслив, решил, что будет лучше привезти его в театр на «Петрушку». Я не видела Нижинского с тех пор, как в 1913 году он покинул нашу труппу и уехал танцевать в Америку. Новость о его болезни дошла до меня, когда я была в России. Говорили, что сначала он стал нервным и подозрительным. Ему казалось, будто со всех сторон его окружают коварные враги. Он не выходил на сцену до тех пор, пока специально нанятый им служащий не осмотрит, закрыты ли все люки и не посыпан ли пол битым стеклом. Вскоре страхи исчезли, но совершенно пропала память, он забыл, кто он. Для него трагедия закончилась, но невозможно описать трагедию тех людей, кто был рядом с ним и пытался вернуть хоть искру понимания в его затуманенный мозг. Они постоянно твердили ему, кто он, повторяли снова и снова его имя, но печальное заклинание не имело никакой власти над его духом. После периода галлюцинаций, когда на него было больно смотреть, но он не приносил вреда окружающим, Нижинский впал в покорную апатию и почти перестал разговаривать», — вспоминала Карсавина.
Такое же сильное впечатление производит на знаменитого танцовщика и хореографа Сержа Лифаря встреча с Нижинским в лечебнице, где давно уже не танцующий гений внезапно стал импровизировать на музыку «Призрака розы»: «Без каких-либо видимых усилий и подготовки, даже без плие, Нижинский стал отрываться от пола. Его высокий прыжок был таков, что никто из тех, кто был свидетелем «Призрака розы», никогда его не забудет. Его жена и мой брат Леонид побледнели и стояли, как завороженные: Ромола Нижинская из-за чуда, которое она снова увидела спустя двадцать лет, а мой брат из-за чуда, которое он в тот раз увидел впервые в своей жизни».
Нижинский умер в Лондоне 8 апреля 1950 года. Вспоминает Ричард Бакл:
«Погребальная месса состоялась в Сент-Джеймсе за музеем «Коллекции Уолласа» в пятницу 14 апреля. Помимо Ромолы Нижинской присутствовали бывшие коллеги — Тамара Карсавина, Мари Рамбер и Лидия Соколова. Гроб несли, построившись парами по росту, с самыми невысокими впереди — Серж Лифарь и Антон Долин; Фредерик Аштон и я; Майкл Соумз и Сирил Бомонт. Из всех нас только Бомонт видел Нижинского в период его славы. Впоследствии он признался, что гроб показался ему невыносимо тяжелым. Гроб поставили на катафалк. Мы с Аштоном не ездили на кладбище».
***
В 1919 году Вацлав Нижинский записал в своем дневнике: «Я чувствую во плоти, а не разум во плоти. Я плоть. Я чувствую. Я Бог во плоти и в чувствах. Я человек, а не Бог. Я простой. Люди не должны думать обо мне. Они должны ощущать меня и понимать чувством. Ученые будут размышлять обо мне и напрасно ломать голову, потому что мышление не принесет им никаких результатов. Они глупые».
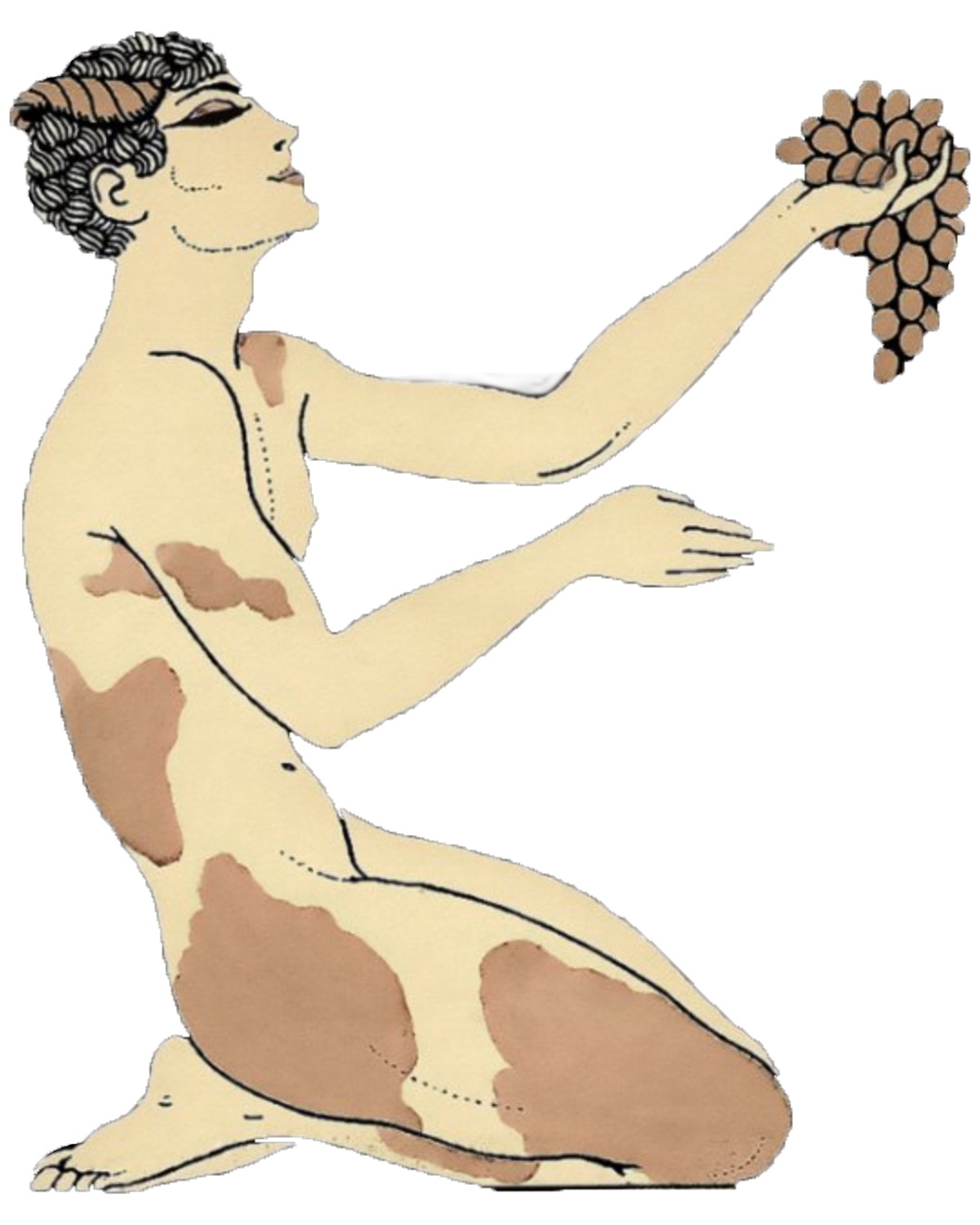
Литература по теме:
Ричард Бакл. Нижинский (пер. Л. Игоревского, А. Курт, Ю. Гольдберга). Москва, 2011.
Тамара Карсавина. Театральная улица. Москва, 2023.
Edwin Denby. Notes on Nijinsky Photographs, 1943.
Nicolas Legat. Ballet Russe. Memoirs, 1939.
Serge Lifar. Serge Diaghilev, His Life, His Work, His Legend: An Intimate Biography. New York City, 1940.
Nijinsky: An Illustrated Monograph, edited by Paul Magriel. New York: Henry Holt, 1946.
Waslaw Nijinsky, and Joan Ross Acocella. The Diary of Vaslav Nijinsky. New York: Farrar Straus and Giroux, 1999.
Geoffrey Whitworth. The Art of Nijinsky, 1913.
Иллюстрации: 1. Дж. Сарджент
2. В. Уиллоуби
3. Ж. Барбье
4. Л. Бакст
5. Ж. Барбье
