
Юлия Яковлева — один из немногих балетоведов, познавших славу на собственном опыте. В 1990–2000-е балетный обозреватель газеты «Коммерсантъ» и журнала «Афиша», сотрудник пресс-службы и музея Мариинского театра, организатор гастролей балетной труппы, лектор. Ее имя наводило трепет в балетных кругах. Однако успешная карьера рецензента не помешала ей заниматься фундаментальными историческими исследованиями. Юлия Яковлева стала автором книг о балете: «Мариинский театр. Балет. ХХ век», «Азбука балета», «Создатели и зрители». В беседе со Светланой Потемкиной она рассказывает о новой журналистике и балетном сообществе, об издательском доме «Коммерсантъ» и Санкт-Петербургской консерватории, о Циликине и Гаевском, Лопаткиной и Дунаевой.
Я нашла способ рассказывать о балете.
Согласна ли ты с утверждением, что у балетоведов не сложилось сообщества, которое есть, например, у театроведов?
Вот не соглашусь. Когда вышла моя книга про балет XIX века «Создатели и зрители», писатель и критик Дмитрий Бавильский написал в своем блоге, что современная русская балетная критика — лучшая проза об искусстве на сегодняшний день. Смысл его пассажа был именно в том, что балетоведение — это самый высокий уровень нашей гуманитарной мысли в целом, если сравнивать с тем, как пишут о кино, музыке, театре. Я была изумлена, что он читает книги о балете, и к тому же, когда кто-то со стороны говорит такие вещи, задумываешься: это вот так выглядит?
Но он имел в виду именно тебя?
Ему понравилась книга, да, но этот пассаж, написанный несколько лет назад, впечатлил и запомнился именно потому, что он говорил об уровне мысли и писания в целом. Он имел в виду, что это сообщество самое дружное, самое интересное, думающее и тексты лучшие производит. Конечно, в это время писал Вадим Моисеевич Гаевский.
Может быть, просто мы дружнее филологов — смотря с кем сравнивать?
Возможно, но вспоминается золотое время, когда были живы Красовская и Гаевский, а мы были веселые и молодые, и москвичи ездили пачками (извини за балетное слово — группами) на петербургские спектакли, а петербуржцы — на московские. Я до сих пор помню восторженное чувство единства с московскими коллегами. Мы внимательно друг друга читали, спорили. Как-то после спектакля мы в трамвае так громко кричали, что у Малахова красивые ноги, и Анна Галайда громче всех: «Боже, какие у него щиколотки! Какие коленки, какие икры! А какая стопа!» Мы все это восторженно обсуждали, распугивая петербуржских обывателей, хотя это балетный город и балетный трамвай, который ехал в Коломну и обратно, и там процент людей, понимавших, о чем речь, был необычайно высок.
Недавно я увидела его фотографию и снова подумала: какие же красивые ноги, самые красивые ноги русского балета той поры. Вообще чувство полета, подъема, восторг оттого, что мы молоды, и ощущение, что самое главное происходит здесь и сейчас, родило наше сообщество. Тут же пишут Гершензон и Кузнецова, и мы с огромным интересом и жадностью бежим читать их новые статьи. И балетные артисты несутся читать все про себя, и статьи вывешивают в театре, обсуждают, потому что это что-то значит, за балетными критиками бегают, их выводят со спектаклей, с ними громко ссорятся…
Это все было очень интересно. Сейчас такого нет. Вот эти громкие ссоры были очень семейными, потому что никто в итоге не ссорился окончательно и никаких ужасных мер не предпринимал. Это были бурные итальянские ссоры, которые заканчивались тем, что в итоге все опять встречались на спектакле, смотрели и что-то писали, а другие потом бежали читать, что про них написали на этот раз. В этом были эмоции, и это было хорошо. Мы все это понимали, даже обруганные артисты, хотя, наверное, те в меньшей степени, потому что им было обидно. Как бы мы ни ругались, что бы ни писали и ни критиковали, это была жизнь, и ругались-то мы потому, что происходил какой-то живой процесс. А сейчас уже и ругать нет запала. Волна поднялась, достигла пика и разбилась.
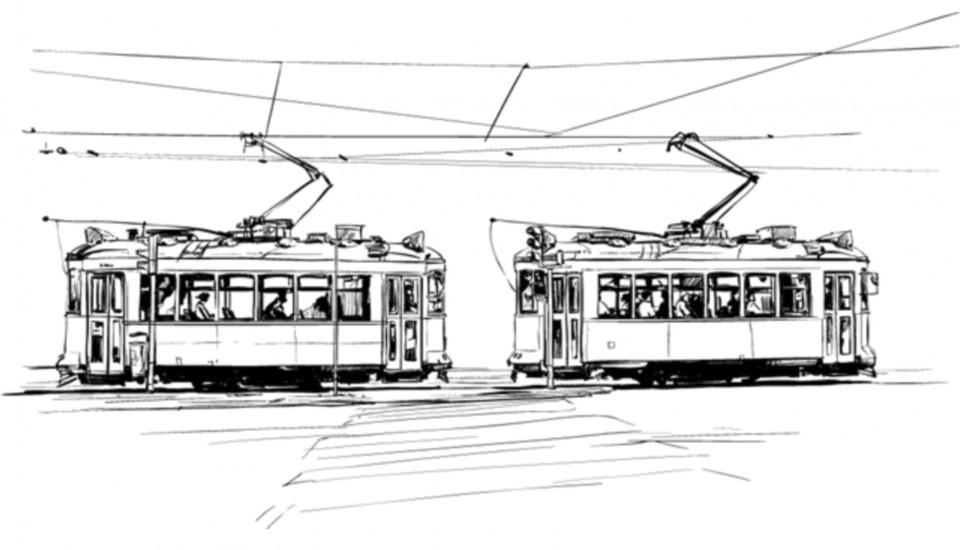
Помнишь, в какой момент это случилось?
В конце 1990-х балет был очень обсуждаемым, о нем говорили по телевизору, балетных артистов приглашали в ток-шоу, они красовались в глянцевых журналах. Но в конце концов все приедается. Сейчас нет широко известных имен, они стали локальными.
Давай подумаем, что произошло. Я могу говорить только за себя, но мне кажется, я утратила интерес, когда Ульяна Лопаткина сделала годовой перерыв в карьере, вернулась, и мы увидели, что Лопаткина уже не та. Я говорю, как Гаевский, «мы», но скажем так: я, Юля Яковлева, увидела, что она вернулась не та. Я вдруг вспомнила разговоры старых балетоманов про Уланову, когда они говорили: «А Уланова не та». Да, до сих пор на нее ходят зрители и кричат — ну как же, они купили билеты на Лопаткину (а тогда на Уланову) и прикоснулись к мифу, — но мы, старые поклонники, те, кто видел ее с самого начала, знаем, что это не то же самое. И я поняла, что случилось неизбежное, то, что случается со всеми.
Так было и сто лет назад, когда Любовь Дмитриевна Блок писала про 80-е годы XIX века «самое тусклое время в балете». Закончилось яркое время соперничества звезд, восторгов критики, шума студентов на галерке, когда балет был частью поп-культуры и актуального искусства, и наступило тусклое десятилетие. Что происходит сейчас, я не знаю, потому что перестала этим интересоваться.
Как этот процесс происходил у тебя?
Мне кажется, я еще некоторое время интересовалась отдельными личностями. Мне всегда было любопытно, что делают Ратманский, Вишнева, что происходит в антрепризе Даниляна. Я следила за тем, как Михайловский театр и Музыкальный театр имени Станиславского меняли менеджмент и становились международными динамичными компаниями, — меня это увлекало. Но это уже была не моя история — та жизнь, которая кипела во второй половине 1990-х, закончилась. Возможно, мы стали взрослее и спокойнее, иначе мне трудно объяснить.
«Как бы мы ни ругались, что бы ни писали и ни критиковали, это была жизнь, и ругались-то мы потому, что происходил какой-то живой процесс. А сейчас уже и ругать нет запала. Волна поднялась, достигла пика и разбилась».

Помню, как мы шли по Невскому проспекту и ты рассказывала про Ирму Ниорадзе, а я думала: вот это жизнь! И отношения, и на сцене творится то, что тебя восхищает. Как ты сейчас считаешь: можно дружить с теми, о ком пишешь?
Конечно, да. И сейчас я в этом еще больше уверена. Когда говорят, что критики не должны дружить с артистами, так как это замутняет взгляд, мне кажется, это не так. Дружить можно с человеком, когда тебе очень нравится его искусство. Ты вспомнила Ирму Ниорадзе. Она считалась великолепной балериной, но всегда оставалась на втором плане после Лопаткиной, Вишневой. А я сейчас думаю: ничего себе второй план?! Возможно, у нее был узкий репертуар, и это помешало ей выйти в первый ряд, но она была блистательна, она замечательная артистка. И вот это понимание, что ее искусство — это явление, как раз и позволяло дружить с ней как с человеком. Даже если какие-то роли не удавались ей настолько, чтобы их можно было громко хвалить, все равно они были мне интересны, и ее искусство вызывало огромное уважение.
Я не говорю, что дружу с Ратманским, это не так, но мне легко задать ему какой-то вопрос или поговорить о чем-то именно потому, что основой всего является высочайшее мнение о его искусстве, уважение к тому, что он делает, восхищение его художественной уникальностью. И получается вот такая двойная оптика: с одной стороны, общаешься с человеком, а с другой —изумляешься тому, что это чудо природы. То есть, безусловно, это человек, который ест и пьет, злится, грустит, завидует или радуется, в хорошем настроении или нет, но это все не мешает помнить, что вообще-то он чудо. Поэтому мне кажется, я понимаю, как Гаевский дружил с балетными артистами. Это восхищение всегда было бэкграундом всего.
Своим студентам всегда говорю о твоей книге «Мариинский театр. XX век» и сама заглядываю в нее, когда хочется перестроить оптику. И вот когда попадаю на страницы о Спесивцевой, вспоминаю твое увлечение ею в школьные годы. Тебе свойственно пересматривать отношение к событиям и людям? Было ли такое, что кто-то переставал быть для тебя интересным?
Мне кажется, у каждого такое было. Наверное, Спесивцева хороший пример, потому что о ней написано множество восторженных текстов. С опытом, становясь более взрослым человеком, уже как писатель, а не как балетный критик, я понимаю, что перед нами забавная житейская ситуация. Мы видим красивую молчаливую девочку с грустным лицом, а когда человек грустный и красивый, о нем можно нафантазировать бог весть что, хотя за этим была пустоголовая девочка, которую интересовали тряпки, влиятельные мужчины. И вот эта типичная куколка-балетница, которая не могла связать двух слов, нескладно говорила, нескладно писала, невежественная, как все они, обладала удивительным даром притягивать и будить воображение интеллектуальных мужчин, умевших настрочить такие тексты, что мы до сих пор читаем и думаем, что же это такое. Это миф-пустышка, созданный Волынским и Гаевским, который читал Волынского. Это пустое место умудрилось поднимать вокруг себя вихри мужских восторгов, причем не банальных таких, кавалерийских, типа «ножки, талия, цыпочка, шейка, пальчики», а восторгов интеллектуальных мужчин, которые разведут турусы на колесах вокруг красивой женщины, и тебе уже кажется, это что-то гениальное, практически Анна Ахматова танцующая. От совсем юного Слонимского до убеленного сединами Волынского и Вадима Гаевского, который вообще видел ее только на пленке, где нет ничего особенного — красивые ножки, милое кукольное личико.
Спесивцева — яркий пример того, что литература о балете может быть отдельным видом литературы, как правильно написал Бавильский. Может быть, это какая-то типично русская история, но писания о балете в России стали действительно больше, чем просто рецензии о балете. Я не думаю, что она была великой балериной, просто в это не верю. Это артистка, которая стала существовать в текстах мужчин, восторгавшихся ее физической красотой, ее обликом. Она красивая, интересная, но я думаю, если бы мы видели ее вживую, переглянулись бы и сказали: что это?

Книга «Мариинский театр» как-то повлияла на твою судьбу?
Нет, никак. Я до сих пор помню, как пришла за стопками книг, перевязанных шнурком, принесла их домой и подумала: и вот на этом все и кончилось. С тех пор я никогда эту книгу не перечитывала, и мне кажется, если бы прочитала, ужаснулась бы и захотела все переписать по-другому, заново. Не было такой книги о балете, которая бы что-то изменила в карьерном смысле, но не забудь, что все уже происходило в те годы, когда сама балетная наука как конституция рухнула по сути.
В постсоветское время уже не было системы, при которой ты становился преподавателем, доцентом, профессором — уважаемым человеком. Мне до сих пор кажется, что это какая-то моя несостоявшаяся жизнь. В то время, когда мы работали, гораздо большее значение имели публикации в газетах. Все мои коллеги-кинокритики чего только в жизни ни делали, пописывая параллельно, но я зарабатывала на жизнь только тем, что писала о балете. Точка. Было два таких человека: я и Татьяна Кузнецова. Мы были на зарплате. До сих пор все изумляются, когда я говорю, что всегда работала по специальности и не была никем иным.
В консерватории я училась быть балетным критиком и, еще учась, начала работать в «Коммерсанте». Вот это значило в жизни гораздо больше, потому что привело меня в редакцию «Коммерсанта», в отдел культуры при Алексее Тарханове, в журнал «Афиша», когда ей руководил Ценципер, а потом Сапрыкин и там собралась блистательная редакция. Вот это меняло жизнь, да.
Наверное, ты один из немногих балетоведов, познавший на себе, что такое слава. Как ты ощущала это изнутри?
Был такой момент, когда меня читали все и говорили: а ты знаешь, кто тебя читает? Помню нашу жизнь нулевых годов в «Афише». Прихожу на работу, у меня на столе стоит бутылка вина, присланная кем-то, и конфеты или еще что-то такое от незнакомых людей, которые читают и им нравится. И это так странно было, потому что мне казалось, что я, как говорят в американских фильмах, просто делаю свою работу. Но оглядываясь назад, я вижу сейчас, что в какой-то момент нашла способ рассказывать о балете и тем, кому балет неинтересен. Они не ходили в театр, но им было интересно читать, как я пишу о балете. Литература о балете вылилась в отдельный жанр.
«Коммерсантъ» создал свою стилистику, но, если бы не работа в издательском доме, ты писала бы как-то иначе?
Да, ты права, я думаю, что приход в «Коммерсантъ» повлиял. В «Коммерсанте» все были старше меня — Гершензон, Добротворский, Карина Добротворская, я чувствовала себя девчонкой и была девчонкой рядом с ними, но они и стали моим кругом общения. Это было прекрасное время возрождения русской журналистики. Я помню этот восторг создания нового буквально у всех редакторов, с которыми работала. И мне хочется с благодарностью вспомнить и назвать людей, которые воодушевленно старались нас чему-то научить.
Им тогда было лет по 30–40. Они видели, что приходят молодые, дерзкие люди, совсем дети: давайте их научим с нуля делать то новое, что никто раньше и не делал. Мы были ужасные салаги. Мне исполнилось 17 лет, и я понимала, что передергиваю: какой писатель в 17 лет? Поэтому я всем врала, что мне 19, и думала, что это совсем другое дело. «Вечерний Петербург» первым приютил мои детские опыты. Редактором отдела культуры там был замечательный Леонид Попов, к сожалению, рано умерший театральный критик. Помню, как он ксерокопировал для меня статьи Паши Гершензона и говорил: посмотрите, вот это хорошо. В консерватории нам такого не говорили.
Точно такая же история повторилась с другой петербургской газетой, где работал Дмитрий Циликин, к сожалению, рано погибший. Он тоже с огромным энтузиазмом возился с желторотиками. Я помню, как мы сидели с ним по два часа перед экраном и он буквально ползал по каждому слову, показывая, как и что надо переделать. Сейчас я не могу себе представить редактора, который бы так делал. Но та же история повторялась в «Коммерсанте». Чтобы сделать интересный текст в короткое время, надо было говорить быстро, говорить по существу. Я всегда помнила заветы Дмитрия Циликина: «Текст должен кончаться вместе с мыслью, может быть, чуть-чуть раньше. Ты должен что-то сказать, у тебя должны быть мысли, чтобы написать текст». И вот эти простые рецепты плюс дисциплина, при которой нет времени думать, нет времени ваять что-то уникальное для вечности, очень помогли в «Коммерсанте».
Жесткая дисциплина ежедневной газеты очень подхлестывала. Помню, как иду по Невскому, звонит Алексей Тарханов и говорит: у меня для тебя неплохие новости, умер такой-то. Я говорю: а кто это? Он отвечает: у нас дедлайн через два часа, и у тебя есть ровно два часа, чтобы узнать, кто это, и сдать нам текст. У Алексея Тарханова была железная дисциплина, были штрафы и премии, и вот эта коммерсантовская школа позволила мне работать и в «Афише», где тексты читали, мне кажется, все.
Из «Коммерсанта» ты ушла в «Афишу»?
Нет, я работала параллельно, видимо, потому, что второго такого инвалида, который бы писал о балете в Петербурге, невозможно было найти. Но я была единственным исключением – переходы в «Афишу» всегда карались в «Коммерсанте» увольнением.
«Человек, который ест и пьет, злится, грустит, завидует или радуется, в хорошем настроении или нет, но это все не мешает помнить, что вообще-то он чудо. Поэтому мне кажется, я понимаю, как Гаевский дружил с балетными артистами. Это восхищение всегда было бекграундом всего».

Как ты считаешь, дала ли тебе что-то учеба в петербургской консерватории?
Она дала среду. Думаю, много найдется тех, у кого другое мнение на этот счет, но, на мой взгляд, это было довольно любительское заведение, где находили приют те, у кого не задалась работа в другом месте, и они были выброшены оттуда, где им хотелось работать. Теперь уже я понимаю, что для многих людей, которых мы там видели, это не было местом их мечты, поэтому они принесли туда все свои фрустрации и обиды на жизнь и дико колошматили друг друга, особенно если видели, что кто-то вырывается вперед.
Так было с Наталией Лазаревной Дунаевой, которая оказалась на этой кафедре единственным профессиональным человеком. У нее была последовательная методика, было четкое понимание, как добиться результата. Для науки о балете это было революционно и принесло очень большие результаты, потому что Наталия Лазаревна начала проводить конференции, фестивали, готовить научные сборники, то есть это стало быстро приобретать черты школы. Но думаю, ей было в консерватории несладко. Коллеги посмеивались за ее спиной и всячески критиковали, испытывая зависть и неудобство. Она как бы укоряла их тем, чего они сделать не смогли, а она ведь действительно совершила научное открытие — теперь я могу сказать об этом уверенно. Она сделала такую вещь, как историческая реконструкция.
Историки балета раньше работали так: изучали старую прессу и на основании того, что написали до них критики прошлых лет, пытались понять, что же произошло и как это воспринимало общество. Но как по котлете понять облик коровы? Никак. Вот скажу странную вещь, которую поняла сейчас в разговоре с тобой. Я думаю, именно Наталия Лазаревна сделала меня в итоге писателем-детективщиком, потому что учила мыслить критически, отличать правду факта от правды постфакта, мнение от факта. Она учила выбирать реальные исторические детали из рецензий, пользоваться архивными документами и понимать их, выцепляя из них реальность. Изучая все вот эти сметы, конторские книги, клавиры, партитуры, которые никто раньше даже не читал, потому что они казались совершенно бессмысленными, лишенными какой-то информации, ты действительно учишься быть сыщиком. И для меня как для писательницы сейчас это пригождается на каждом шагу, потому что я могу заставить говорить любой документ, я понимаю, о чем он свидетельствует. На самом деле никто не подозревает, как много могут рассказать вещи, архивные материалы, если документ «заставить запеть», как говорила Наталия Лазаревна. Надеюсь, моя биография Майи Плисецкой в этом убедит.
А чему было завидовать, ведь Наталия Лазаревна занималась историей, а не критикой и не практикой танца — у нее было свое поле?
Она бесила их как человек другой природы, думаю, их задевала ее серьезность.
Да, конечно, мы с ней тоже ломали копья…
У нее ни с кем не было простых отношений. Любви к ней никто не испытывал, привязанности, симпатии — нет. Хотя мы были желторотиками, мы понимали, что это человек изломанный, сложный, человек с таким количеством тараканов, коридоров и чуланов, что это вызывало протест. С ней было неприятно иметь дело — давай назовем вещи своими словами.
Бывало по-разному, но я помню лицо Наталии Лазаревны и ее восторг по поводу моих архивных разысканий, и я не знаю, кто бы мог радоваться так же, как она, и с кем можно разделить эту радость.
Согласна. Ее карие, немного выпуклые глаза начинали блестеть и светиться, она понимала в этом толк. Я бы сказала так: с ней иногда очень стремно было иметь дело, но с ней всегда было интересно.
Ты защищала диплом в РГГУ у Вадима Моисеевича Гаевского, а что стало причиной конфликта в консерватории?
В тот момент меня так увлекала собственная жизнь, что некогда было даже вникать, я только понимала, что начинают поступать какие-то абсурдные и заведомо невыполнимые требования. И когда Вадим Моисеевич протянул руку помощи и сказал, что надо просто перейти в РГГУ и доделать диплом, я так и поступила. Никаких обид или горечи у меня даже не сохранилось, но почему бы не предположить, что им искренне не нравилось то, что я делаю?
«На самом деле никто не подозревает, как много могут рассказать вещи, архивные материалы, если документ «заставить запеть», как говорила Наталия Лазаревна Дунаева».
А что могло не нравиться?
Я человек другого поколения, у меня другой вкус. На мой взгляд, то, как они делают, скучно, неинтересно и так не надо, но я допускаю, что с их точки зрения то, что делаю я, — туфта. Здесь совершенно обоюдные отношения.
Но будучи человеком другого поколения, Гаевский же мог это оценить?
И Красовской то, что я пишу, нравилось. Может быть, они и осуждали Красовскую, но так дико ее боялись, что не осмеливались никогда об этом сказать. А Гаевского все дружно не любили. Он посмеивался всегда, поэтому не могу сказать, насколько реально его это обижало. С мягким смешком он описывал и наше знакомство: «Розанова так меня представила, что вы тут же спрятались за нее и смотрели из-за нее очень строго и очень презрительно». Но, видимо, мои «презрительные» взгляды, «скептические», не помешали нам очень дружить. Вот к нему и Красовской я была по-человечески очень сильно привязана и очень обоих любила. Если с Наталией Лазаревной это было какое-то умозрительное понимание ее ценности, уникальности и сложности, то этих людей я любила безусловно.
Во время одного из наших разговоров Вадим Моисеевич сказал что-то вроде того, что с Юлей мы давно не общаемся, но буду рад, если она вернется.
Да, мы не общались в последние годы, и есть, конечно, жестокость какая-то, что жизненные интересы расходятся. Это как с родителями, которые где-то там, и кажется, что они будут всегда. Тогда меня уже увлекло писательство, от балета я отошла, но когда писала книгу «Создатели и зрители», позвонила ему. Это был первый человек, которому я бросилась звонить, когда поняла, что Перро не ставил «Жизель», вообще не участвовал в репетициях. Я поняла это, будучи писателем-детективщиком, выученным Наталией Лазаревной, и анализируя письма Бурнонвиля, на которые ссылался Слонимский.
Когда читаешь Бурнонвиля на датском языке, понимаешь, что Перро тоже был в Париже, но не был на репетициях «Жизели». В своих письмах жене из Парижа он описывает все, кроме этого. Он пишет, как Перро тихо жиреет, потому что находится в клинической депрессии, как он ругает Карлотту, пьет, страдает и пишет о том, что надо быть разумным, не рвать себе сердце. Когда я прочитала эти письма, то поняла: будь Перро на репетициях «Жизели», Бурнонвиль бы описал это, потому что сам посещал репетиции, видел там Коралли, всю эту золотую молодежь парижскую — всех, кроме Перро. Это значит, что Перро там просто не было и не надо придумывать, что он там что-то ставил.
Первый человек, которого я бросилась обрадовать этим открытием, был Вадим Моисеевич. Но мне не хотелось ему портить сюрприз, я только сказала: я поняла, что там происходило. По сути, это был наш последний разговор, и я поразилась, что его живой, очень острый ум, как и интерес к балету, сохранился до последних дней жизни. Когда мы говорили, я всегда начинала хохотать, у меня болели щеки от смеха, он всегда смешил, он был блестящим собеседником и вообще француз, мушкетер, хотя ему 90 лет, он Д’Артаньян. Вадим Моисеевич — это Вадим Моисеевич.

Есть ли темы в балете, которые тебя по-прежнему волнуют и ты хотела бы об этом написать?
Когда издательство «Альпина» предложило мне сделать книжечку-малышечку для детей про Майю Плисецкую, я прочитала ее мемуары, сопоставила некоторые факты и вдруг поняла, что маленькой книжечки не хватит. Мне захотелось написать портрет Майи на фоне советского и западного искусства XX века, но, когда я стала работать с архивами, поняла, что все куда интереснее. Я завершила первую часть, том заканчивается гастролями в Америке, но попробую это дописать — вот такой у меня сейчас интерес.
Я очень рада, что Майя Плисецкая стала твоей героиней.
Это не порадует, возможно, многих ее поклонников, но другой Майи у меня для вас нет.
Мне сейчас Плисецкая особенно интересна и как менеджер собственного успеха, если можно так сказать. Известно, что она придавала большое значение тому, что пишут, как фотографируют, и всегда фильтровала все, что о ней выходило.
«Фильтровала» — это самое мягкое определение, которое можно найти.
Мне тоже интересно это, совершенно с тобой согласна, и именно об этом пишу. Первое, что меня захватывает, — это механизмы создания образа ее успеха, потому что это именно успех, над которым человек целеустремленно думал и прилежно трудился, и в меньшей степени интересно писать о ее танце, хотя есть вещи, которые она сделала действительно первой, поменяв эстетику балета. Она была одной из величайших исполнительниц, это правда.
Это восхищает, потому что большинство актеров вообще не думают о собственном имидже и о том, что будет после, а ее это интересовало.
Она любила успех и в определенный момент времени думала о закономерностях того, как возникает легенда и почему до сих пор люди говорят о Нижинском, но не говорят о замечательном танцовщике Фокине. Почему люди говорят об Улановой, но не говорят так много о Семеновой, почему говорят о Плисецкой, но не говорят о Шелест. В одном из интервью она откровенно пишет о том, что величие искусства не дает тебе места в истории и вовсе не величие твоего искусства и твоей индивидуальности определяют твое место в истории. Вот это несоответствие ее очень занимало.
Видела ли ты записи, где Плисецкая демонстрирует коллекцию моды?
Да, и в этот момент, конечно, понимаешь, что Плисецкая по всем статьям придумана американскими фотографами журнала Vogue, что это не она как актриса, это не ее имманентное качество. Плисецкая как икона стиля — произведение фотографов.
Хотела бы ты что-то сказать, о чем я тебя не спросила?
Хочу пожелать новой редакции интерактивного журнала «Балет» удачи и веры в собственные силы. Даже если будет казаться, что никому это не надо, продолжайте работать и вкладывать в это дело энергию. Мне кажется, это очень важно.


