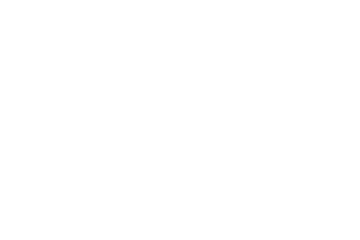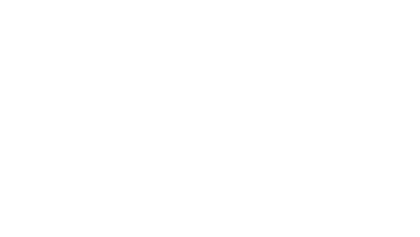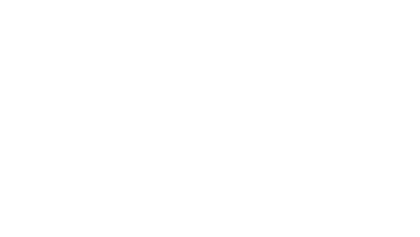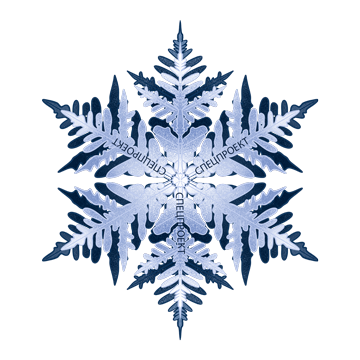Как построена музыка к балету «Щелкунчик», почему она совсем не детская и почему это абсолют сказки – рассказывает композитор и автор телеграм-канала «Глаз композитора» Варвара Чуракова.
После появления «Щелкунчика» 23 марта 1892 года из-под пера великого русского композитора Петра Ильича Чайковского зимнее рождественское время нашего мира обрело новое звучание. Звучание томительно-сказочное, позднеромантическое, с роскошными арфовыми переливами, звенящими стеклами елочных игрушек у челесты, с густо-темными «гофмановскими» пассажами бас-кларнета, с пафосом благородных, сладостно-теплых возгласов валторн Вальса цветов. По-другому стал идти снег, стала загадочнее блестеть мишура на елках, и новое, неизведанное, будто надтреснутое и уязвимое чувство начало охватывать в ночной предрождественской тишине у стылого окна. И это звучание Рождества — последнее в нашем мире, находящееся на краю своего конца. Последнее. Прощальное. Созданное прощальным. «Эта музыка прощальная», — такая мысль охватывает меня при прослушивании «Щелкунчика».
У Пастернака есть такие строки о Рождестве:
«…Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы…»
«Рождественская звезда», 1947
Они удивительно точно подходят в качестве легкого абриса пленительной эстетики мишуры и, вместе с тем, духа, привнесенного в предрождественский мир Чайковским, той невыразимой тайны «Щелкунчика», которая очаровывает детей и взрослых. Чайковский подвел надвременной итог эстетике мишуры с ее семантикой сказки, волшебства, грез и блесток, облагородив ее ровно так, как подобает гению: холодом чистоты и теплотой печали своей души.
Бодрое, радостное, предпраздничное, но хрупкое состояние детства окутывает нас независимо от возраста и времени жизни сразу же, с первого аккорда моцартианской по духу увертюры. Здесь Чайковский предстает верным наследником Моцарта не по букве, а по духу. Партитура увертюры сияет рассредоточенным «напросвет» тембром струнных divisi без виолончелей и контрабасов. Это удивительный пример музыки без «плоти» баса.

Может, именно в этом и есть состояние ребенка — в неосознании своей плоти? Чистая душа гения дерзает навсегда остаться в детстве, это ее благословение и ее трагедия. Поэтому гений может выхватить из нашего подсознания настолько тонкие переживания из детства и поры взросления, что охватывает дрожь. Дрожь тоски по своему состоянию цельности, целомудрию.
Музыка «Щелкунчика» ни в коем случае не детская музыка, она предназначена не только для детей и не только для взрослых. В этой музыке нет места инфантильности. Инфантильными могут быть только взрослые. Она предназначена для человека. Маленького или большого — здесь суть не в этой разнице. Да, она говорит на языке ребенка. Ребенка умного, серьезного, ранимого, задумчивого. Ребенка, ждущего чуда Рождества, задумчиво прислонившегося лбом к замерзшему окну, в том состоянии уязвимости, которое прозрел Лермонтов:
«И верится, и плачется,
И так легко, легко...»
«Молитва», 1839
Таким навсегда «стеклянным ребенком», как называла его няня1 Фанни Дюрбах, остался сам Чайковский. Но ему в момент написания партитуры балета было отнюдь не легко: он восходил на Голгофу своего таланта, вытягивая из себя жилы:
«Главная причина моего отчаяния была та, что я тщетно напрягал свои усилия к работе. Ничего не выходило, кроме мерзости».2
Истинная легкость гения почти всегда, кроме благословенных секунд, рождается в тисках муки ремесла.
Драматургия «Щелкунчика» зиждется на трех образах, не волшебных, а, скорее, человеческих, даже онтологических. Бодрая, мальчишеская, маршевая поэтика партии Щелкунчика — увертюра очерчивает как раз эту образность. Другой полюс — поэтика теплой вечной женственности в образе Клары, которая впервые раскрывается в ее колыбельной Щелкунчику, в ее заботе, полной девической непосредственности, и сразу вступает в конфликт с мальчишеским императивом — колыбельную прерывают трубные возгласы маршика Фрица и его друзей. И третий полюс — поэтика гофмановского сумрака, фатума, зла, которую вносит в действие… Дроссельмейер, а не мыши. У Гофмана этот персонаж, наоборот, скорее положительный, но сценическая условность требует упрощения архетипов.
Появление Дроссельмейера с мрачноватой темой у альтов в сопровождении двух тромбонов слегка отодвигает благостное праздничное действие у елки в субъективную болезненную плоскость.

Такие «монтажные» перебивки из совсем другого мира («Пиковой дамы» и Шестой симфонии) довольно часты в «Щелкунчике», они пугающе окунают в безысходную реальность. Эти «джамп-каты»3 могут возникнуть в любые моменты, например, уже в увертюре внезапно возникает взволнованная интонация из «фатального» языка Шестой симфонии, вызывая в душе тень легкого недоумения и смятения.

«Может, показалось?..»
Или в самом сказочном Вальсе снежных хлопьев — щемяще-тоскливая линия мелодии у тембра низких флейт вытягивается из вступительного изображения поземки и вдруг резонирует в пустоту.
Это «тянущая» русская тоска посреди глубоких снегов, вымерзшая линия бесконечного заснеженного горизонта. Говоря о Вальсе снежных хлопьев, музыковед Б.В. Асафьев подмечает тонкую вещь: «вращательное и спиральное движение вьюги ритмически и интонационно родное» для русской музыки, заложенное в ее корне».4
Все остальное в партитуре — эстетика мишуры, но она — не декор трех гуманистических линий действия, в ней сумрачное очарование недосказанности и игры, в ней заключен весь мерцающий космос «Щелкунчика». Посреди великолепия этой мерцающей благородным блеском симфонической волшебной мишуры еще больше потрясают прорывы страстного высокого пафоса чувства. Здесь уже слышится речь сердца самого композитора, перекрывающая (а может, и горячо отрицающая) всю условность сказки. В эти моменты кажется, что Чайковский больше не в силах молчать и быть в рамках сказки. И в знаменитом Pas de deux он наконец позволяет себе разжать пружину ограничения жанром: это высказывание не могло не разлиться потоком гаммы и в кульминации достигнуть трагедийной вершины с излюбленным Чайковским противодвижением симфонических пластов.

Лирический пафос Pas de deux «предслышится» в ночной сцене роста елки в первом акте. В авторских эскизах к «Щелкунчику» эта сцена выделяется следами особо напряженной работы: в ней наибольшее количество помарок и исправлений5. На сцене мы видим грандиозное действо растущей елки, но в музыке — «растущая» душа Клары и ее любовь. Это масштабная симфоническая картина, построенная на развертывании секвенции — непрерывного восходящего волнообразного повторения одного мотива, наполненного страстной устремленностью.

…Когда скрипки начинают эту мелодию, ошеломляет горячая задушевность и серьезность первого, незнакомого, но уже совершенного в своей полноте большого чувства. Первое чувство самое серьезное. Только дети на пороге взросления могут познать всю глубину чувства, ибо оно первозданно.
Ночная сцена первого акта — самое психологически зыбкое место драматургии спектакля. Она наполнена страхами юной Клары. В ней сплетаются сказочное и человеческое, зарождающаяся тема любви к Щелкунчику, мирное, колыбельное, снежное и битва с мышиным королем.
Девочка остается в одиночестве, ей не спится. Музыка наполняется мышиной возней с мотивами фатума (духовые соло), оттенками увеличенного лада, загадочными репликами низкой флейты с «перебегающими» арфовыми глиссандо на фоне дрожащего тремоло струнных, то ли с «гумилевским»6 мерцанием крысиных глазок, то ли с их писком у флейт пикколо. Чайковский даже использует здесь свою излюбленную «фатальную» последовательность аккордов у медных духовых на органном пункте ля у литавр, с ремаркой «Ей страшно» в духе «Пиковой дамы».

Вся эта музыка будто была уже проиллюстрирована Пушкиным с невероятной точностью в «Стихах, сочиненных во время бессонницы»:
Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу...
1830 г.
Особенно будоражит последняя строчка, скорее всего добавленная уже Жуковским: «Темный твой язык учу...»,
— словно адресованная Чайковскому, как надвременной оммаж его поэтике «фатального» сказочного сумрака. Такой диалог творцов совершается уже не в этом мире, но в мире идей — чем не сказка? Без искусства сказка в нашей жизни была бы выдумкой, в искусстве же она становится реальностью.
Второй акт балета призван напомнить о жанре балета-феерии и разогнать ночь и переживания первого акта. Несоразмерная краткость акта, который, скорее, воспринимается как сцена, наивность и иллюстративность «кондитерского» дивертисмента тяготила Чайковского. Нужно было сотворить чудо, чтобы не уничтожить архитектонику композиции всего балета, его философию, композитор это очень четко осознавал: «Мне предстоит сделать очень смелый музыкальный фокус... Второе действие балета можно сделать удивительно эффектно, но оно требует тонкой, филигранной работы...»7 Чайковский превратил дивертисмент в харáктерную симфоническую сюиту, в которой номера сопоставлены по контрасту. Фокус удался: дивертисмент превратился в россыпь жемчужин.
Быстрый темпераментный испанский танец Шоколада с блестящим соло трубы и кастаньетами сменяется «пряным» медленным арабским танцем Кофе, в котором спрятано настоящее чудо: грузинская народная колыбельная «Иав нана», записанная Ипполитовым-Ивановым. Если об этом знать, то вся хорошо известная метафора Востока арабского танца преображается в нечто более родное и близкое нам, тоскливое, строгое и простое, а не пышно-восточное. И этого автор достигает не только через заимствование мелодии грузинской песни, а всю музыкальную ткань выдерживает необычайно стильно и аутентично (темброво, ладово и метрически) музыке народов Закавказья. Как точен заунывный мягкий «дудуковый» мотив-тембр рефрена у кларнетов и английского рожка, обрамляющий каждую строфу песни!
Оркестровка китайского танца Чая лучится противопоставлением двух крайних регистров оркестра (самых низких звуков фаготов и самых высоких — флейт), удалой русский трепак проносится широким «малявинским» мазком. Марионеточный танец пастушков галантно шепчет солирующей группой флейт на фоне низких pizzicato, а французские полишинели бойко завершают дивертисмент народной песенкой «Жирофле-Жирофля».
В знаменитом Вальсе цветов и pas de deux с вариациями сконцентрирована вся лирическая, драматическая и, наконец, трагедийная сила балета. Вся его жизнь, его сердце, его патетика — здесь. И под конец этого лирического цикла — внезапное отстранение в сумрак сокровенного (самый эффектный «джамп-кат» балета, конечно, здесь!). Вариация Феи Драже. Мистическую точку в спектакле ставит именно Фея Драже. То, что после ее двухминутной вариации будет помпезное завершение в большом балетном стиле — кода, финальный вальс и апофеоз, — вызывает только ухмылку.
У кого: у Чайковского, у нас или у Феи?.. У музыки?
Эта музыка отрицает все, что будет дальше.
Она просто балансирует на тонком канатике над бездной, пределы которой обрисованы колоссально удаленными друг от друга тембрами челесты и бас-кларнета. Это абсолют сказки.
*В материале использованы нотные открывки начала тем из балета «Щелкунчик».
1. М. Чайковский, Жизнь П. И. Чайковского. М., «Алгоритм», 1997. С. 24.
2. П. Чайковский. Письма к близким. Избранное, М., 1955. С. 479—480.
3. Jump Cut (джамп-кат) — резкая смена кадра в киномонтаже.
4. Б. Асафьев. Избранные труды, т. IV. С. 91.
5. Ю. Розанова Симфонические принципы балетов Чайковского. М., "Музыка", 1976. С. 115.
6. Имеется в виду стихотворение Н. С. Гумилева «Крыса».
7. Письмо Всеволожскому от 3/15 апреля 1891 г. Цит. по кн.: Ю. Слонимский. Чайковский и балетный театр его времени. С. 263.