
Кандидат искусствоведения, эксперт «Золотой маски» и заведующая научной редакцией «Большой российской энциклопедии» Наталия Звенигородская известна как один из лучших редакторов и самых строгих рецензентов. Это касается и артистов, и коллег, пишущих о балете, причем у последних шансов получить оценку по гамбургскому счету гораздо больше. О том, как в ее жизни появился балет и кто главные герои ее рецензий, как встретил ее Государственный институт искусствознания и чему научил экспертный совет «Золотой маски», Наталия Звенигородская рассказала Светлане Потемкиной.
Правды в театральной среде никто от тебя не ждет.
Наталия Эдуардовна, как Вы попали в компанию театроведов?
Моя старшая сестра дружила с внучкой Бориса Бабочкина и со слов Бориса Андреевича рассказывала о Мейерхольде, его аресте и гибели. Потом сестра привезла мне из Монголии случайно найденную там в ворохе русскоязычных книг на складе монографию Рудницкого «Мейерхольд», над которой я в юности много рыдала, будучи девушкой чувствительной.
Получается, что Мейерхольд стал вашим героем, потому что у него тяжелая судьба?
Поначалу, возможно, так и было. Когда перечитала то немногое, что было к тому времени о нем издано, увлеклась уже серьезно. Каждый февраль со всем жаром юного романтического существа ехала на Белорусский вокзал (больше нигде цветы тогда купить было невозможно) и потом в Брюсовом переулке старательно прилаживала цветочки к его мемориальной доске. Разглядывала окна той самой квартиры. Там не было еще музея. Жили люди, которым после ареста Мейерхольда и убийства Райх их жилплощадь отдал Берия. Или их потомки…
И Вы решили поступать на театроведческий факультет?
Почему-то даже не думала. Поступила в Историко-архивный институт, где познакомилась с Львом Рошалем. Лев Моисеевич преподавал в МГИАИ всю жизнь, а в свое время начинал писать диплом о Мейерхольде. Ему защищаться на эту тему тогда не разрешили, и он очень воодушевился, услышав о моем интересе. Помог связаться с нашим ведущим специалистом по творчеству Мейерхольда Константином Лазаревичем Рудницким, который фактически стал руководителем моего диплома (формально — оппонентом). Это был 1986 год. С тех пор (и, как выяснилось, на десятилетия) я засела в газетный зал Ленинки. Рудницкий был сотрудником сектора театра Института искусствознания, что в Козицком переулке. После защиты диплома говорит: «В аспирантуру я тебя взять не могу. У нас там одно место, оно в этом году уже занято. Но…». Он выбил для меня не существовавшую до тех пор должность, и я пришла в институт лаборантом сектора театра.
Какие у Вас были впечатления от сектора театра?
Константин Лазаревич предупредил: «Придешь в первый раз — не пугайся, Юрий Арсеньевич всегда кричит». Заведовал сектором тогда Юрий Арсеньевич Дмитриев, известный театровед, историк цирка и добрейшей души человек. Сектор был большой, человек 30 знаменитостей. А я — человек со стороны. Ни среды не знала, никого, ничего. Юрий Арсеньевич меня представил: «Это наш новый сотрудник, лаборант Наталия Эдуардовна». Немедленная реакция от Веры Анатольевны Максимовой: «Чья дочка?»
Что Вы ей на это ответили?
Эдуарда Григорьевича. Вера обескураженно задумалась — таких имени и отчества среди коллег не припоминала, а никак иначе, по ее мнению, молодой человек сюда попасть не мог. Это был апрель 1988 года, а в сентябре Рудницкого не стало. И тогда мне казалось, что кончилась жизнь.
От него многое зависело?
Дело не в этом. Я была домашней девочкой, а Константин Лазаревич принял меня под свое крыло, так и называл — «малыш». И тут вдруг… Пришлось срочно взрослеть. Моим научным руководителем стала Татьяна Израилевна Бачелис. Я за многие уроки жизни ей благодарна. Никаких малышей. После первого нашего разговора по тексту диссертации я вышла из ее подъезда и… только через пару минут поняла, что иду совершенно в другую сторону. На себе испытала: то, что нас не убивает, закаляет. Я закалялась.
«Как-то вдруг почувствовала, что у стеба есть и оборотная сторона. Хлесткие и броские mots не отворяют, а как бы опечатывают выход к осмыслению и анализу, к вдумчивому разговору о сколько-нибудь серьезных вещах».
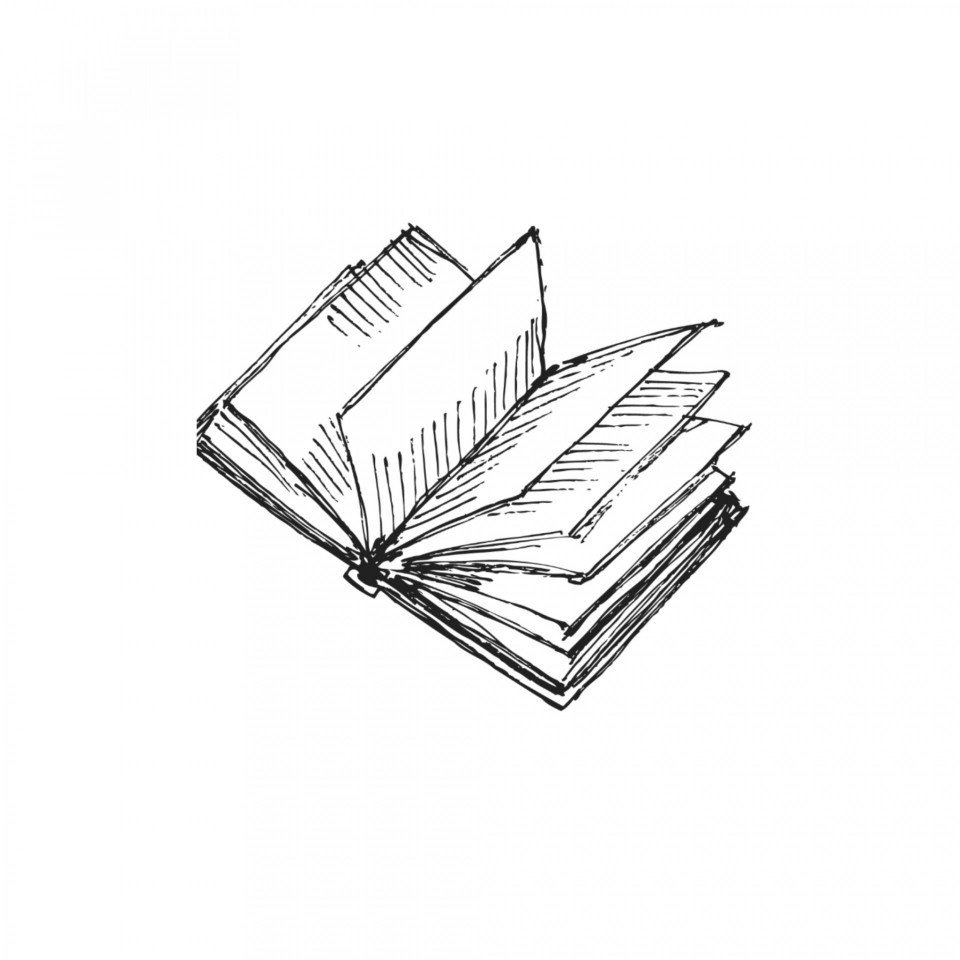
Диссертацию писали по Мейерхольду?
Да. Диссертацию, потом книгу (вышла в 2004-м).
Довольно крутой поворот — от Мейерхольда к балету. Почему?
В какой-то момент встала перед выбором: продолжать заниматься Мейерхольдом, но уйти из сектора с людьми, с которыми работать и сосуществовать категорически не хотела, или остаться с коллегами и выбрать новую тему. Я осталась.
И выбрали балет?
Балет я любила с детства, но и в мыслях не было о нем писать. Теперь я понимаю, что рассказы о том, будто в профессию человек попал «случайно», мол, мимо шел или за компанию с товарищем, совсем не обязательно придуманы задним числом. Журналистом, пишущим о балете, меня сделал именно случай — завязавшаяся дружба с коллегой по сектору театра Екатериной Беловой. Активно пишущий балетный критик и очень энергичный человек, Катя и меня вовлекла в этот круговорот. Сначала как зрителя, но вскоре заставила, что называется, взяться за перо.
И так получилось, что среди других и я оказалась свидетелем процессов, происходивших в балетном театре и танце в эпоху общественно-политического слома такого масштаба, какой пережила Россия в конце XX века, можно сказать, почувствовала его глубинные потрясения на себе. Одно дело — заученно ориентируясь в традиционной системе координат, прекраснодушно мечтать о разрушении опостылевших стереотипов. Другое — очутиться на их обломках… Как увидеть в чем-то не понравившемся тебе не слабость постановщика, а предмет для аналитики? С каких позиций оценивать то, чего раньше никогда не видел? Как, к примеру, свыкнуться с тем, что современный танец — не балет, что судить о нем следует по иным законам, среди коих одним из основных зачастую является отсутствие всех и всяческих законов?
Это была эпоха газетного бума. Здесь тоже все менялось, бурлило. Авторы вновь возникавших изданий становились властителями дум. Отдел культуры в каждой уважающей себя газете был непременно. И солидный. Сюда пришли молодые профессионалы — эрудированные, зубастые, талантливые (кому сколько отмерено), не отягощенные идеологическим, а иногда заодно и этическим грузом прошлого или, по крайней мере, желающие быть именно такими — свободными. И на каком-то этапе едва ли не ведущим стилем балетной критики стал стеб. Были блестящие остроумцы, были циники. Вполне понятная эйфория освобождения от запретов, нормативов, цензурных пут. Я тоже хохмила. Мне удались кое-какие фельетоны. Но как-то вдруг почувствовала, что у стеба есть и оборотная сторона. Хлесткие и броские mots не отворяют, а как бы опечатывают выход к осмыслению и анализу, к вдумчивому разговору о сколько-нибудь серьезных вещах. Свобода требовала внутренней ответственности, которую теперь не на кого было переложить. Так что приходилось самой выбирать не только, о чем писать, но и как.
И какой ход Вы выбрали?
Мне очень помог многолетний опыт научной работы с прессой столетней давности — сначала для диссертации и книги о провинциальных сезонах Мейерхольда, а с середины 1990-х для многотомного издания дневников последнего директора императорских театров Теляковского. Я поняла, насколько важны и ценны даже самые «глухие» отклики очевидцев, как много могут рассказать даже скудные, на первый взгляд, свидетельства, в том числе и не самых одаренных газетных рецензентов. При этом сведения непосредственно о том или ином спектакле — это лишь один слой ценной информации. В различных точках зрения и критериях оценки увиденного, в позиции пишущего, в его интонации, невольно проскальзывающих в тексте реалиях эпохи для будущего исследователя — неисчерпаемый клад.
А Вы общаетесь с практиками: танцовщиками, хореографами?
Стараюсь не сближаться. Понемногу мне стало понятно, что правды в театральной среде никто от тебя не ждет, тем более про самого себя. Я не корпоративный человек. Не могу хвалить, если вижу и понимаю, что это плохо. Даже «своих» хвалить не могу. У нас в доме никогда не было притворства. В семье обо всем говорили, все обсуждали, родители разговаривали с нами о театре, о балете, потому что очень его любили и много видели. Мне интересно то, что я вижу на сцене. Размышлять об этом — интересно, а общаться — нет.
Было ли такое, что Вы резко пересмотрели свое отношение к тому или иному человеку?
Не к человеку, а к человеку на сцене. Такое бывало, естественно. Если говорить о довольно резкой смене восприятия, это Ульяна Лопаткина. Поначалу — действительно отрешенно-неземное создание с взыскующим взором. Но как только с обывательской точки зрения жизнь ее вполне определилась, встала на прочный фундамент, потусторонность исчезла, выражение глаз изменилось, танец изменился, появилась повадка хозяйки, и это совсем перестало быть интересным. Неземное существо стало казаться эдакой партийной дамой от балета.
А что абсолютно «ваше»?
Почти сакраментальное — «ваша любимая книга?» На такой вопрос просто ответить, если человек прочел в жизни всего три книги или видел три спектакля. Если бы было мало «моего», не было бы смысла этим заниматься. Много хорошего — и сегодня, и вчера. Вот навскидку недавний случай. Попалась в интернете черно-белая запись «Спартака» 1970-х годов. Хотя совсем не собиралась, просмотрела ее до самого конца. И, как в детстве, меня это потрясло. Сейчас больше, чем в детстве, конечно. Причем теперь больше других потряс Лиепа. Это что-то невероятное по актерскому проникновению в образ и по изощренному пластическому воплощению едва уловимых тонкостей. Наслаждение. В этом составе «Спартак» можно смотреть бесконечно, и всякий раз увидишь что-то новое.
«По слухам, я рецензент жесткий, но доброжелательный. Для меня это была высшая похвала».

Есть ли что-то еще столь же абсолютное для Вас?
Якобсон. В прошедшем сезоне я съездила как эксперт «Золотой маски» на очередную якобсоновскую программу: этот человек был гением, он таким родился, ни убавить, ни прибавить. Среди сегодняшних исполнителей — премьеры Большого театра Вячеслав Лопатин и Денис Савин. Хорошо, что мое увлечение сценой в детстве и юности началось с драматического театра, и при этом я счастлива, что меня не угораздило продолжить заниматься драматическим театром, а прибило к театру музыкальному. Есть, конечно, сильные впечатления в драме, например, «Князь» Богомолова в Ленкоме. Но танец, видимо, мне ближе. Человеческая пластика передаст такое, что самому человеку осознанно и в голову не придет. Не устаю удивляться.
Если говорить о балете, был ли исполнитель, который произвел на Вас впечатление своим выступлением на сцене?
Алексей Ратманский в бытность танцовщиком. Он поразил еще юношей в начале 1990-х, когда появился на Дягилевском конкурсе. У него умное тело, какая-то нечеловеческая интуиция, инстинктивное чувство стиля. Это дар. То, что он делал в маленьких номерульках, то, как он превращал несуществующее в абсолютно осязаемое, стилистически определенное, потрясающе. Но танцовщик Ратманский в России так толком и неизвестен. Как ни пафосно звучит, это боль моей жизни…
На ваш взгляд, есть ли какой-то другой, новый принцип для восприятия театральных, танцевальных постановок в XXI веке?
На мой взгляд, это тема для искусствоведческой диссертации с социопсихологическим уклоном. Мне кажется, не нужно искать для оценки увиденного нормативы и госты. От этого трудно отделаться, но хорошо бы. Ни автор, ни зритель никому ничем не обязаны. Это не конвейерное производство и не армия. Это творчество. На сцене и в зале — творчество. Самое волшебное в жизни состояние. Как любовь. Если постановщик, скажем, интерпретирует того или иного автора не так, как вам кажется правильным, позвольте ему это. Поразмышляйте вместе с ним или сами по себе. Это же здорово. И здорОво. Только железной рукой к свободе восприятия не дай бог загонять. Как и ни к какой другой свободе.
Вы переводите с французского языка — это Ваша параллельная жизнь?
Почему параллельная? Это просто моя жизнь. Как и все прочее. В начале 1980-х начала переводить для «Экрана и сцены», потом переводила Буссенара, Жюля Верна, театроведческие статьи. Самое для меня ценное — перевод монографии французского исследователя Мишеля Сануйе «Дада в Париже». В 1997-м, кажется, вышла. Очень много мне дала эта работа. Сейчас, к сожалению, на переводы совсем нет времени.
А как Вы работаете, как пишите?
Не знаю, наверное, есть люди, которые пишут легко. Я к ним не отношусь.
Но рецензии на чужие работы пишете легко?
Я ничего легко не пишу. И спрашивается, зачем я это делаю. Но почему-то нравится. Для меня самой загадка.
Известно, что Вы беспощадный рецензент, но знаю по себе, что Ваши предложения всегда очень ценны.
Стараюсь. Некогда Катя Васенина, попросив меня о научном руководстве, сказала, что, по слухам, я рецензент жесткий, но доброжелательный. Для меня это была высшая похвала.
Участие в жюри и экспертном совете «Золотой маски» стало важным этапом в жизни?
Очень полезным опытом скорее. Возможностью наглядно убедиться в том, что это действительно два разных угла зрения, когда ты внутри «Маски» и когда — снаружи. Пока не побываешь и в той, и в другой шкуре, этого не ощутишь. Начинаешь понимать критерии и уже не предъявляешь пустых претензий там, где раньше их предъявляла, не понимая специфики. Дело не в том, что ты кому-то что-то прощаешь, — совершенно не в том. Ты понимаешь весь механизм и уже не подозреваешь каких-то подводных камней, которых на самом деле зачастую нет. Мы ведь нередко остаемся поборниками демократии ровно до того момента, когда мнение большинства совпадает с нашим собственным. Но как только эта демократия голосует за то, с чем мы не согласны, вспыхивает возмущение: «Как вы могли?!» А вообще-то, знаете, «масочные» дебаты очень способствуют формированию философского взгляда на жизнь.


